Чем Лермонтов круче Пушкина — Гоголь объяснил одной фразой: с ним многие поспорят
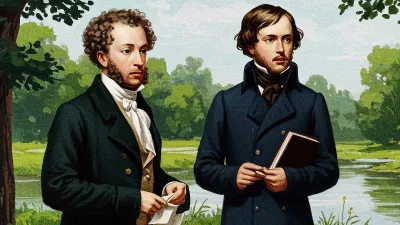
Пока в кино идет новый фильм «Лермонтов», зрители вспоминают, каким был поэт на самом деле. Современники оставили о нем противоречивые воспоминания, но среди писателей нашелся тот, кто сумел увидеть в нем не просто поэта. Этим человеком был Николай Гоголь.

Они встретились только однажды
Лермонтов и Гоголь жили в одну эпоху, знали друг о друге и даже однажды пересеклись лично. Это произошло 9 мая 1840 года в Москве, когда Михаил Погодин устроил званый обед в честь именин Гоголя. Среди гостей были Вяземский, Тургенев, Орлов, актер Щепкин — и молодой поэт Михаил Лермонтов, уже тогда известный не только «Демоном» и «Смертью поэта», но и своими дерзкими выходками.
По воспоминаниям современников, после обеда Лермонтов прочитал отрывок из новой поэмы — сцену боя мальчика с барсом из «Мцыри». Читал, говорят, вдохновенно, и слушатели были поражены. Константин Аксаков писал, что Лермонтов «сделал на всех самое приятное впечатление».

На следующий день они встретились снова — на вечере у Екатерины Свербеевой. Тургенев отмечал в дневнике, что разговор Гоголя и Лермонтова продолжался почти до двух часов ночи. О чем говорили два писателя — неизвестно, но это была их последняя встреча.
«Гоголь не верил смерти Лермонтова»
Через год после той московской встречи Лермонтов погиб на дуэли. Когда Гоголь услышал эту новость, он отказался верить. Его современник Николай Огарев писал жене:
«Гоголь не верит смерти Лермонтова, ибо дуэль давно известна и известно, что никто в ней не погиб. Слава Богу, если так!»
Но надежда оказалась напрасной. И только спустя несколько лет Гоголь решился высказаться о нем открыто — в книге «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847).
Круче Пушкина в одном
Гоголь писал, что со смертью Пушкина «остановилось движение поэзии нашей вперед» и что все новые поэты остаются «в заколдованном круге» его гармонии. Из этого круга, по его мнению, смог вырваться лишь один человек — Лермонтов.
«Со смертью Пушкина остановилось движенье поэзии нашей вперед. Это, однако же, не значит, чтобы дух ее угаснул; напротив, он, как гроза, невидимо накопляется вдали; самая сухость и духота в воздухе возвещают его приближение. Уже явились и теперь люди не без талантов. Но еще все находится под сильным влиянием гармонических звуков Пушкина; еще никто не может вырваться из этого заколдованного, им очертанного круга и показать собственные силы. Еще даже не слышит никто, что вокруг его настало другое время, образовались стихии новой жизни и раздаются вопросы, которые дотоле не раздавались; а потому ни в ком из них еще нет самоцветности. Их даже не следует называть по именам, кроме одного Лермонтова, который себя выставил вперед больше других и которого уже нет на свете».
Однако оценка Гоголя была неожиданной. Он признавал, что в поэзии Лермонтов не успел найти себя:
«Ни одно стихотворение не выносилось в нем, не возлелеялось чадолюбно и заботливо, не устоялось и не сосредоточилось в себе самом; самый стих не получил еще своей собственной твердой личности и бледно напоминает то стих Жуковского, то Пушкина; повсюду — излишество и многоречие».
Но при этом делал неожиданное признание:
«В его сочинениях прозаических гораздо больше достоинства. Никто еще не писал у нас такой правильной, прекрасной и благоуханной прозой».
Гоголь называл Лермонтова «будущим великим живописцем русского быта» — человеком, который сумел увидеть реальную жизнь и внутренний мир человека глубже, чем кто-либо до него.
Подводя итоги, Гоголь сказал о Лермонтове одно: в стихах он еще повторял Пушкина, но в прозе — превзошел всех. И именно эта мысль остается одной из самых спорных оценок в русской критике до сих пор.



